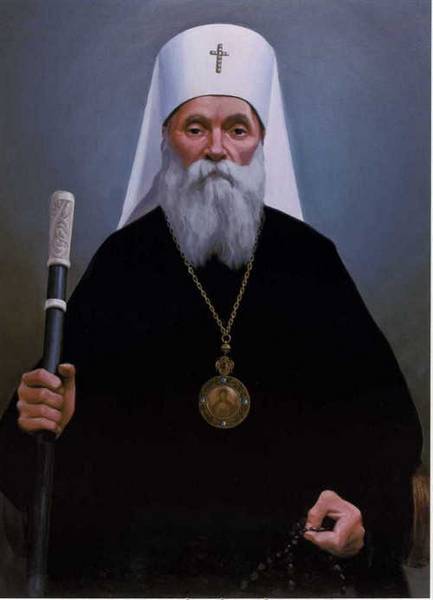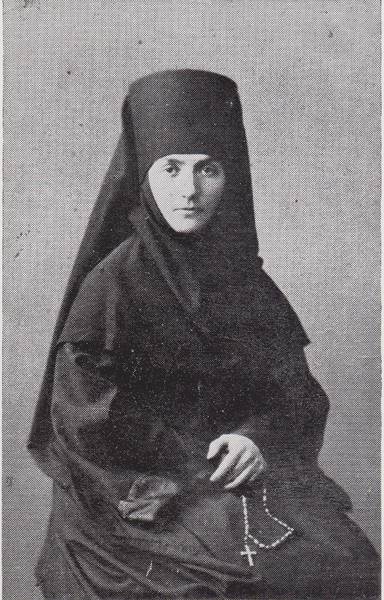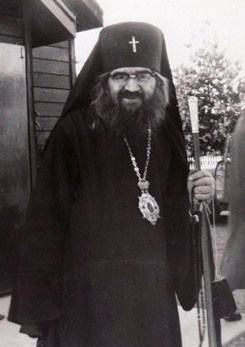2/15 декабря 1950 года Архиерейский Собор РПЦЗ , который начался в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, а закончился в Новой Коренной Пустыни в Магопаке, опубликовал своё Послание к «возлюбленным во Христе чадам в рассеянии сущим». Это первое собрание архиеерев Зарубежной Церкви…